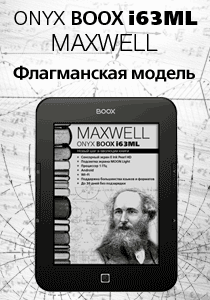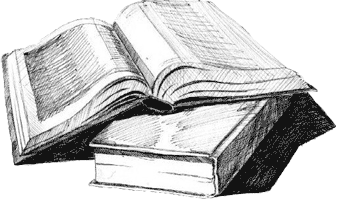 |
|
МЕНЮФестивали и конкурсы Семинары Издания О МОДНТ Приглашения Поздравляем НАУЧНЫЕ РАБОТЫ |
Политические воззрения Якобинцев: Марат и РобеспьерГражданский закон вовлек человека в торговлю, человек стал торговать самим собой, и цена его стала определяться ценой вещей. Человек и вещь стали смешиваться в мнении общества". Отношения собственности, "алчная собственность", "жалкая собственность" - извратили и подменили естественные связи. Без классических марксистских формулировок Сен-Жюст безусловно воспринял и по-своему выразил последствия универсализации товарно-денежных, вещных отношений и вычленения на этой основе отношений собственности для "овеществления" и торжества "вещной зависимости". Вот этим порокам отчуждения человека от человека и в конечном счете самоотчуждения противопоставлен идеал гражданской общины как возрождения связей, основанных на "естественных чувствах", и как общности, в которой "независимость и сохранение каждого обеспечивают независимость и сохранение всех". Идея "натурализации" гражданского общества и "социализации" естественной для него рыночной экономики была порождена, как я стремился показать, реальными тенденциями становления этого общества, которые вызвали реальный протест многомиллионных масс французских крестьян и ремесленников, добивавшихся гарантии существования и социальной защиты. Очевидно и то, что человечество вновь и вновь возвращается к этим не потерявшим злободневности вопросам, немало успев при том в поисках ответа. Мировой исторический опыт - при таком многомерном учете его - отнюдь не вынес какого-то приговора идее, вдохновлявшей якобинцев; но сделал еще более предосудительными употребленные ими методы. Само собой разумеется, что и методы требуют всесторонней оценки вместо привычной и поверхностной отсылки к диктатуре пролетариата и "красному террору". Корректный анализ непременно выявит объективное сходство исторической ситуации: апокалипсические настроения измученных войной и разрухой масс, общую зависимость от духовного, психологического и даже физиологического насилия, растворенного в порах дореволюционных порядков. Несомненно, должна идти речь о стремлении революционеров и их руководства навязать обществу планы его радикального и немедленного переустройства. Но различными были эти планы, различались и установки на их осуществление. «Не было у якобинцев ни идеи диктатуры санкюлотов[23], ни учения о правящей партии как представителе последних. По всему своему мировосприятию, идейной формации не могли они принять претензии одного класса на преобразование в обществе; само понятие партии было для них одиозным, равнозначным раскольничеству. Они действительно не знали, на какой класс опираться, в чем?»[24] Но не знали, потому что не хотели, потому что сознательно или полусознательно игнорировали классовую дифференциацию среди народа, противоречивые интересы отдельных его слоев, полагаясь на "общий интерес", "единую волю", "общественное мнение". В господствовавшей версии стремление якобинцев к всеобщности, пропущенное сквозь призму одномерного классового подхода, многие годы подвергалось разоблачению. При толковании Великой французской революции, как и всякой буржуазной революции, исходившем исключительно или по преимуществу из буржуазного классового интереса, оно представлялось "лицемерием", и лишь в современную эпоху крушения догм было реабилитировано, притом даже получило противоположную нравственную оценку - раннебуржуазное бескорыстие. При явной несовместимости ценностей обе оценки методологически исходят в общем из одного источника. Основоположники марксизма, отметив тенденцию восходящего к господству класса выразить свои устремления в "форме всеобщности", проявили к этой "форме" сугубо двойственное отношение - как к "иллюзии", которая "вначале правдива". Античная традиция в якобизме иллюстрировала для Маркса иллюзию всеобщности, в которую облекался буржуазный интерес. Мой вывод противоположен: обращение к античности было выражением действительности в якобинизме всеобщего интереса. За якобинской иллюзией всеобщности крылся интерес не только буржуазии и не столько буржуазии, сколько огромной небуржуазной части общества - поистине, "всей массы общества в противовес единственному господствующему классу", или, точнее, в лице прежде всего жирондистской группировки, классу, который отстаивал претензию на единоличное господство. Оказавшись в перипетиях революционной драмы лишь кратким эпизодом жестокой борьбы, якобинское стремление к всеобщности рельефно воплотило, однако, ту тягу к абсолюту справедливого и гармоничного общества, что спустя столетия поддерживает интерес к революции XVIII в. Революционный порядок управления якобинцев, способствовал объединению гражданского общества сверху. Но идеалом для Сен-Жюста, например, являлась сильная общая связь членов общности при слабости государственной власти, когда не государство связывает людей, а люди, "связанные между собой, создавали государство". Он недвусмысленно подчеркивал вторичность государства, и в качестве идеолога якобинской диктатуры отстаивал не тоталитарное государство, которое подмяло под себя или подменило собой все социальные связи, но общество, в котором превращалась в абсолют всеобщая связь его членов. Отчуждение революционной власти от общества явились следствием или воплощением этой абсолютизации. В свою очередь, абсолютизация общей связи произошла не как прямое следствие приоритетности ее в проекте нового общества, а как следствие столкновения якобинцев с "федерализмом", который совершенно определенно трактовался ими не только как политическое, но и как социальное явление - распад социальных связей. Итак, нет внутренней необходимости для превращения проекта гражданской общины в практику государственного насилия над обществом, однако возможность такого поворота легко увидеть. Не может не поразить контраст между последовательностью в умозрительном развитии принципов нравственного и естественного порядка для Франции, и той безнравственностью и противоестественностью, с которыми граничило стремление к достижению искомого порядка. Насколько проникновение в психологию исторического деятеля может быть верным - чем мягче представлялись нравы идеального общества, чем гармоничнее отношения между его членами, чем меньше основания для применения в нем насилия , но тем жестче оказался террористический порядок. Контраст идей и результата претворения этой идеи в жизнь многие заметили совсем скоро. Якобинцы оказались между силой притяжения общественного идеала и той самой «силой вещей", которая вначале приблизила их к его осуществлению, а затем безжалостно отбросила. Назревала своеобразная депрессия воинственных якобинцев. В этой психологической драме воплотилась историческая трагедия - трагедия якобинской попытки руководить революцией. Когда в 1793 г. мощное социальное движение столкнуло революцию с магистрали прямолинейного буржуазного развития и вместо торжества гражданского общества поставило в повестку дня принципы естественной социальности, планы идеального и реального, вечных ценностей и повседневных нужд стали для якобинских лидеров стремительно сближаться. К реалиям расколотого войной гражданского общества стали применяться критерии гармоничного состояния в естественной социальности. Моральность, выражавшая целостность общественного сознания и нерасчлененность различных сфер бытия социума-общности, превращалась в морализирование по отношению к политике и экономике гражданского общества. Приобретя политический характер, этика стала отождествляться с законностью; добродетель была поставлена над правопорядком; нравственное сознание ввели в основу революционного правосудия. Единодушие как органическое свойство общей связи в социально однородном человеческом коллективе подменялось официальным единомыслием. Общественное мнение - основание общей связи при безгосударственных структурах власти - использовалось в целях укрепления государственного порядка. Тотальность социума, в котором члены связаны личными отношениями, оборачивалась тоталитаризмом в условиях общества, основанного в возрастающей степени на вещных отношениях. Утверждают, и не без основания, что ловушкой для якобинского демократизма оказалась теория и практика перехода к идеальному состоянию общества. Но, как мы видим, дело не в том, что якобинцы просто отказались от своих идеалов и, повинуясь "силе вещей" либо ссылаясь на нее, из апостолов свободы стали "деспотами свободы", если перефразировать Марата. Верные принципам демократизма якобинцы программировали новое общество в соответствии с властно проявившимися устремлениями огромных масс французского народа. Но сама запрограммированность социальной политики обернулась для якобинцев разрывом с народными устремлениями, которые не могли не меняться по мере достижения тех или иных поставленных целей и возникновения неожиданных и неблагоприятных последствий. Противоречивые интересы различных слоев французского народа лишь на время можно было свести к общему знаменателю в виде, скажем, всеобщего максимума;(40) внедрение же его вызвало силу народного сопротивления, сопоставимую с той, что навязала его осуществление. Якобинцы не были способны - не столько субъективно, сколько из-за объективных условий тотальной войны - найти ту гармонию частного и общего, на которой зиждился проект гражданской общины. Признавая частный интерес частью всеобщего, они не могли воспринять интерес части французского народа в его противоположности другим и интересу общества в целом, всеобщему интересу, как они его понимали. Такой частный интерес отвергался ими как антиобщественный, как внушенный "заграницей", как результат в конечном счете "иностранного заговора". В якобинской республике не оказалось легального места для частных интересов и их волеизъявления. Кипучая энергия не щадивших себя якобинских лидеров и громадная сила политического режима растрачивалась на пресечение этого волеизъявления, на борьбу с "фракциями". Объективного смысла их появления руководители якобинской диктатуры не понимали или, что в данном случае одно и то же, не хотели понять. И, расставаясь с политической ареной, как урок или заклинание, Сен-Жюст твердил, что "фракции" порождаются тщеславием. "Запрограммированность" социальной политики якобинцев вовсе не исключала тактической гибкости. Критическим моментом в истории диктатуры я бы назвал весну 1794 г., и именно в этот момент революционное правительство продемонстрировало наибольшую гибкость в социальных вопросах. "Запрограммированными" надо считать не конкретные шаги и меры правительства диктатуры, - отпечаток "запрограммированности" лежит на диктатуре в целом. Проблема заключается не в фатальности революционного эксперимента, а в фатализме революционных деятелей, их убеждении в предначертанности своих деяний. Противоречия мысли обнажают заколдованный круг действия. Чтобы обрести в себе силы на свершение грандиозного социального эксперимента, революционеры нуждаются в таком идеологическом "обеспечении", которое придавало их действиям санкцию вечности. Несомненно, это вело к фанатизму, к абсолютизации идеала, к прямолинейному наложению его на действительность. Подобные абсолютизм и прямолинейность граничили с мученичеством, с почти религиозным подвижничеством у лучших из якобинцев. § 2 Террор как феномен Великой Французской Революции. Очевидно, что эта тема не блещет особой оригинальностью: она возникла на следующий же день после 9 термидора. Родившаяся в то время "черная легенда" Робеспьера представляла собой первую, тогда еще примитивную и эмоциональную попытку, истолковать одновременно и Террор, и личность Робеспьера: "чудовищная система" была неотделима от "тирана", а сам он представлялся "монстром", управлявшим страной по колено в крови. Это обвинение его в агрессивности свидетельствует о тяжести травмы, нанесенной Террором; данная легенда демонстрировала растерянность современников перед лицом неслыханной репрессивной системы, которая, в одно и то же время, была частью Революции и противоречила ее основным принципам. Имея в своей основе ненависть и игру воображения, эта легенда отражала в себе и некоторую зачарованность загадочной фигурой Робеспьера. В самом деле, как объяснить, что тот, кого называли посредственностью, не обладающей ни талантом, ни совестью, смог захватить власть и повлиять на ход Революции? С тех пор многое, если не все, было сказано о связи между Робеспьером и Террором. Это - классическая тема для историографии Революции, которая, так или иначе, звучала на каждом этапе ее развития. Тем не менее, уже довольно давно не появлялось новых документов, касающихся Робеспьера. Как это происходит и с другими великими историческими деятелями, поводом для научных дискуссий, связанных с постановкой новых проблем или изменением исторической перспективы, служит комплексный анализ этой фигуры. Очевидно, что немало проблем возникает и при изучении Террора. Вне всякого сомнения, Революция не сводится к этому трагическому событию, точно также, как и роль Робеспьера в истории Революции не сводится к роли "террориста", творца Террора. Тем не менее, Террор и Робеспьер неразделимы: размышлять по поводу одного неминуемо означает анализировать и другое. Иными словами, мне хотелось бы не только рассмотреть политическую культуру Террора сквозь призму политической деятельности Робеспьера, но и поставить в свете увиденного ряд проблем, касающихся теории, практики употребления символов и политических целей Террора. Террор не был реализацией заранее продуманного политического проекта; он постепенно творил сам себя, используя уже созданные и накопленные за годы Революции материалы. 9 термидора обычно считается символической датой, знаменующей если и не окончание Террора, то, по крайней мере, предвестие его конца. По-иному обстоит дело с его началом. С первых же дней, мнения как современников, так и историков резко расходятся. Создается впечатление, что действовавшие на политической арене персонажи не вошли в Террор в некий единый момент времени, а сползали в него постепенно, пройдя через целую серию мелких сдвигов. Иными словами, при выходе из Террора существовал достаточно четко видимый политический проект, тогда как, напротив, мы не видим никакого глобального политического проекта, предшествовавшего Террору или определяющего его. Однако не приходится сомневаться, что в определенный момент, примерно осенью-зимой 1793 года, Террор уже существует, присутствуя повсюду, сопровождаемый проскрипциями и казнями, и демонстрирует свою собственную динамику развития. Трудность в понимании террористической власти состоит, помимо всего прочего, в том, что, с одной стороны, она не представляла собой простую цепь актов беззакония, проскрипций и насилия, но имела характерные черты режима, обладающего своей внутренней логикой; с другой, - это была система управления, структура которой, судя по всему, развивалась на базе временных мер, служивших ответом на критическую ситуацию в стране. Все выглядело так, как будто эта структура являлась основой для формирования типов поведения и отношений, символической практики и дискурса, посредством которых Франция увязала в Терроре. Он, таким образом, укоренялся, доводя до крайности некоторые тенденции, свойственные предшествующей революционной практике и системе представлений. В этом смысле, условия, при которых Террор стал возможен и даже осуществим, необходимо искать в особенностях предшествовавшего ему революционного опыта. По отношению к этому опыту Террор укоренялся одновременно и как его продолжение, и как разрыв; он развивал и доводил некоторые его аспекты до логического предела, нередко трансформируя их в явно тупиковую политику. Один из таких путей, по которым, шло сползание в Террор, было прославление массового, "народного" насилия. Террористическая власть, вне всякого сомнения, не была первым в истории режимом, опиравшимся на насилие и на страх. Но ее отличительная черта была в том, что она осуществляла власть от имени новой, неизвестной в истории легитимности, исходящей от Нации. Террор оправдывался как способ реализации народного суверенитета; террористические законы были лишь проявлением этого неограниченного суверенитета, энергично действующим во имя общественного спасения и революционного обновления. Возможность сползания к системе, в которой репрессии и насилие обретают характер государственных институтов, была обусловлена теми крайне непростыми взаимоотношениями, которые установились между политическими и идеологическими элитами эпохи Революции и "диким", спонтанным насилием "низов", казнями без суда. Эта неоднозначность проистекала не только из того факта, что политические группировки, желавшие радикализировать Революцию, старались опираться на народные массы и использовать их насилие как одно из средств достижения своих целей. Она также, и в особенности, основана на том, что революционная мифология - это мифология созидательного насилия, "народа, совершившего Революцию". Хорошо известно, что зарождающаяся революционная символика колебалась в выборе между двумя основополагающими событиями: 20 июня, клятвой законных представителей Нации, выражающей свою волю посредством мирного торжественного акта, и 14 июля, днем созидательного и героического насилия, днем взятия Бастилии стихийно объединившимся народом. Иными словами, это кровопролитие, сопровождавшее действия "победителей Бастилии", сразу же ставило проблему включения традиции народного насилия в контекст Революции. Знаменитые слова Барнава[25]: "Нас хотят разжалобить пролитой в Париже кровью! Но так ли чиста была эта кровь!", самой своей демагогичностью показывают замешательство перед лицом актов "народа", одновременно и патриотичного, и свирепого. Вне всякого сомнения, действующее право не позволяло ни штурмовать королевскую крепость, ни убивать ее защитников, ни уничтожать того, кто, как считалось, заставлял народ голодать. Однако Революция требовала для себя неписаной законности, положенной в основу нового права, законности, которая отменяла бы действующее право. Именно здесь взаимоотношения между революцией, законностью и насилием становятся чрезвычайно сложными. [26]И в самом деле, как далеко могло зайти признание легитимности этого небывалого и созидательного насилия? И, в особенности, кто должен был отличать "чистую" кровь от "нечистой", народное насилие от простого убийства? Эти вопросы с новой силой встали после сентябрьской резни, и именно в этом отношении речи и политическая деятельность Робеспьера немало способствовали одному из сдвигов, посредством которых происходило сползание в Террор. Прежде всего, я имею в виду его ответ 5 ноября 1792 г. на нападки жирондистов, отличавшиеся практически у всех у них редким неистовством, которое выдавало еще непрошедший ужас перед недавними убийствами. Робеспьеру было нетрудно опровергнуть обвинения в том, что он был организатором и (или) вдохновителем резни: он никогда не подстрекал к продолжению насилия и ни разу не присутствовал лично при его проявлениях. Его объяснения причин этих убийств, в конечном счете, не сильно отличались от выдвинутых по горячим следам некоторыми жирондистами: набат, вызвавший широкую волну паники; готовившийся в тюрьмах заговор с целью перебить семьи ушедших на фронт патриотов и т. д. Робеспьер изо всех сил старается не впасть в прямую апологию участников насилия. Но с самим насилием дело обстояло по-другому. "События" (он никогда не употребляет слово "убийства") были "народным движением, а не, как смехотворно полагают некоторые, локальным бунтом нескольких негодяев, которым заплатили, чтобы они перебили себе подобных. О, если бы это было иначе, разве народ этому бы не помешал?" Делать из пассивности перед лицом насилия вывод о его одобрении, если даже не о некоторой причастности, - это был аргумент столь же демагогический, сколь и тонко рассчитанный. В самом деле, во время сентябрьских убийств население Парижа оставалось пассивным и позволило действовать бандам из нескольких сотен убийц, которые переходили от одной тюрьмы к другой (да и сам Робеспьер также ничего не сделал, хотя заседал в Парижской коммуне и на собрании выборщиков фактически в нескольких кварталах от места резни). |
Приглашения09.12.2013 - 16.12.2013 Международный конкурс хореографического искусства в рамках Международного фестиваля искусств «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»09.12.2013 - 16.12.2013 Международный конкурс хорового искусства в АНДОРРЕ «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»
|
Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.